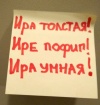Да, простоватая, да не из утонченной интеллигенции, да, просто бухгалтер, влюбилась в одного нашего переводчика, коллегу, довольно известного блогера. Так уж получилось, что он мой товарищ по работе, и, будучи неплохим человеком, мне сказал:
"Слушай. Ну да, она хорошая женщина. Ну не могу я. Ну нет в ней чего-то... Огня что ли нет. Не знаю. Такое ощущение, что она приходит домой, чистит картошку, смотрит телевизор, жарит картошку, и все. Ну что я с ней буду делать? Ну поем раз, поем два. Дальше что? Да, у меня тяжелая личная жизнь. Мара эта (Мара - это Марина, певица и поэт, очень непростая судьба, были наркотики, красива), Мара эта, конечно, меня извела, но с ней была хоть какая-то жизнь, а тут... Ну пресная же".
"Да ты же ее не знаешь! Ну, пообщайся, там душа. Может, человек настолько добрый, душевный, что втянешься?"
"Катя, душевность - это хорошо. Но должен быть дух, огонь. Божья искра".
"Божья искра для творчества нужна, вот ты..."
"Нет, Катя", - перебил он меня, - "искра, из которой все высекается, нужна именно для любви. И те, хорошие, у которых пусть доброта, забота, да даже и красота - тем, к сожалению не достается настоящей любви. Никакой. А достается то, что вообще остается. Жестоко, но факт".
И мне стало грустно. Ну неужели, действительно, простые, наивные, как их еще там называют "простодырые" женщины, без затей, без искр этих, обречены на одиночество? Тут и мужчины есть, я знаю. Пусть ответят. Ну, не верю я, что не хватает доброты и нежности для счастья, ну к чему наворачивать?
И из детства вспомнилось. Грустно. К размышлению.
Дверным звонком не пользовалась, стучала, стук в дверь был Людмилиным ритуалом: тук-тук, кто там, это я, ваша соседка, принесла вам ведро ранеток – наших сибирских, ароматных яблок. Пластмассовое ведро, полное этих яблок, черенков, червяков и листьев заходило первым, за ним тут же – терпкий, крепкий яблочный дух, словно вобравший весь Людмилин сад, а за ними шла сама Людмила в синем трико с белыми лампасами и в футболке с огромным сердцем на королевской груди.
Людмила приносила все сразу – ранетки, мечту о пироге и варенье, но сначала – о вечере с эмалированной миской под английский, «джейностинский» фильм – поближе к классике и к осени: вот сядем мы снова с мамой в мягкие кресла, которые все лето не замечали, словно убирали на антресоли, за окном будет темнеющий вечер, звезды, в вазах – астры, а в миске – ранетки: для варенья, для пирога.
Уже состоявшейся, октябрьской осенью, когда все, как бобры, утепляли квартиры, забивали оконные щели сероватой ватой, хозяйственной и уютной, доставали, как любимые игрушки, шарфы и рукавицы, весь дом начинал мечтать о зимовке и о снеге, и Людмила несла нам закрученную банку: «Маринованные баклажаны!», от которой шел дух новой зимы.
Зимой, за неделю до Нового года, она приносила еловые ветки и счастливый запах хвои: «Вы положите их в плоскую вазу, у вас же есть плоская ваза? Можете обложить шарами, игрушками и грецкими орехами – я такую икебану всегда делаю». Да, икебаны она делала всегда, в сентябре – из желтых листьев и набранных в июле трупов бабочек, и выходило красиво, в ноябре – почему-то из голых рябиновых сучьев и засушенных роз, а под Новый год, вот – грецкие орехи, и мы начинали мечтать о Новом годе: «Приходите к нам, вы же никуда не идете?»
Людмила никуда не шла. У нее не было ни мужчин, ни подруг для Нового года. Конечно, первого, второго января, в дни салатов и несбывшихся волшебств, она ходила. В четыре часа, когда первые сумерки ложились карандашными рисунками, Людмила брала коньяк и в чехословацких сапогах на сдержанном каблуке почти счастливо бежала к Тане и Вале, задыхаясь от январского мороза, гнавшего ее, одинокую, по пустому городку.
Таня и Валя – семейная пара, он – Валя, она – Таня, научные работники, всегда молодые, оба щуплые, как фанатичные студенты-отличники. Заходишь в их дом, в прихожую, там – сразу велосипед ребром, и так стоит уже двадцать лет, как памятник, заденешь этажерку плечом – падает журнал, то «Иностранная Литература», то «Новый мир», вязаный коврик закручивается разноцветным свитоком, а про Таню и Валю говорят – эпифитотиология. Наука о защите растений, в которую они погрузились прямо на пятом курсе, взявшись за руки, заодно поженились и так и остались – бездетные, преданные, похожие друг на друга, как братик с сестренкой из сказочной пьесы, веселые и светлые. Новый год встречают с его (Валиной) мамой, а первое, второе января – со студенческой гитарой и одинокой Людмилой, их хорошей подругой.
Когда мама, держа Людмилины еловые лапы, спросила: «Вы же никуда не идете?», Людмила даже похорошела, и в новогоднюю ночь к нам пришла: платье с воланами – по груди и по подолу, с двумя банками – огурцы и помидоры.
Друзья нашей семьи, дети капустников, Новый год отмечали почти по-студенчески. Домашний клуб «Белая лошадь», игра в шарады – интеллигентная игра особой молодежи, прыгнувшая через уродливую гору советской неродовитости, неинтересности: женщины надевали панталоны и изображали сумасшедших дачниц в белых панамах, танцующих канкан. Дядя Вано, селекционер, музыкант и еврей, декламировал экспромтом под Бродского: «Нынче Новый год – отлично пьется, завтра утром все изменится в округе…», его жена, тетя Дана, острая, курящая и нервная, как кто-то под Ахматову, тихо косящая и страстно любимая дядей Вано, хриплым, немыслимым голосом пела: «Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку…»
Другие подруги, рассыпающиеся длинными, до бедер, бусами, смехом и нежными шалями, Ленинградский гость: очки, странный акцент, интересный жилет, необычная вязка, что-то ирландское, изумрудное, такое советские мужчины не носят – все они Людмиле понравились, хотя шло от них что-то тревожное. Был и наш, советский мужчина, простой, веселый, улыбался много и сразу, крепкая шея в галстуке, оказался Николаем Ивановичем.
«Добро пожаловать, Люда, в наш балаган», – галантно, нарочито без улыбки, как конферансье или Кот Бегемот, приглашал ее в круг друзей дядя Вано, – «грешновато у нас тут, но весело!»
Людмила ни канкана, ни стихов не могла, но, третий раз чокнувшись с Николаем Ивановичем и с тихой, остро-прекрасной Даной, косящей на Людмилу цыганским глазом, словно читая судьбу, вспомнила, что умеет вставать на шпагат.
В платье, шитом по лекалу журнала «Работница»: два волана – по груди и по подолу, на плече – что-то закрученное под розу или бант, Людмила встала возле веселой елки, подтянула к бедрам нижний волан, и – раз! – на шпагат! И руки вверх!
Не сразу поняли, что это было, нужно ли отвечать, но случилось же, надо как-то отреагировать. Потом оживились, кто-то зааплодировал, Дана хохотала в голос и, уронив гладкую, черную головку на тонкую кисть, думала что-то еще о своем, о прошлом. Это соседка сверху, Людмила, носит соленые огурцы, что непонятно? Пришла на вечер – встала на шпагат, хорошая женщина, побольше бы таких, простых.
«За артистку цирку, за советскую, так сказать, гимнастку», – наливал Людмиле веселый Николай Иванович, уже крепко, умело обозначивший себя кавалером. «Смотрите, кавалер», – длинно хохотала одна из Подруг в шали, а Людмила понимающе себе улыбалась: «Тут так надо».
С Николаем Ивановичем было совсем не страшно. Хороший человек, любит дачу, лес и речку, поэзию, между прочим, кандидат наук. Дендрология, высадил много кустарников везде, где мог, в дендропарках, у себя на даче, пишет стихи в подражание Рубцову, обещал дать почитать. «И, вообще, Людочка, жизнь прекрасна», – Николай Иванович ослабил галстук, – «вот вы выходите утром из дома, вы красоту замечаете? Кустарники – как в сказке, и все разные, снежноягодник видели? Вот вы завтра пройдите мимо администрации, посмотрите, он, когда весь в снегу… Чего? Лей, лей, Вано, не жалей, выпьем, Людмила, как вас по батюшке, за родную природу. А еще я барбарис люблю. С детства. Конфеты такие есть, знаете? Вот, а это кустарник, вокруг школы много высажено, а всего его сто семьдесят пять видов, и ягоды осенью кисленькие, красные, как огоньки».
Кажется, Людмила, встретила родную душу, не спугнуть бы ее, удачу. И когда Николай Иванович, подняв Людмилин огурец на вилке, под подмигивание загадочной птицы Даны изрек: «Мне бывшая жена всегда говорила: за соленые огурцы ты, Коля, душу продашь», Людмила поняла, что это – код, шифр, что в этой фразе, в общем-то, все. И жена – бывшая, и душа – еще не проданная, и огурцы.
«Ох, Николай Иванович, у меня этих огурцов – солить только, да уже посолены». Как-то хорошо они нашли друг друга на этом чужом им в целом карнавале с шарадами, с полусумасшедшей Даной и канканом в панталонах. Николаю Ивановичу шутка понравились, и они пошли вдвоем – за Людмилиными огурцами.
Новый год пролетел грешновато, но весело, как сказал наш друг, дядя Вано, было спето много песен, была гитара и хорошие стихи, под утро – даже философия, Брежнев, Хрущев и политика, но Николай Иванович с Людмилой к ней уже не вернулись, у них там, на девятом этаже, была своя, простая и тоже хорошая жизнь. Знаем, что разведенный Николай Иванович получил от Людмилы несколько закрученных банок, хорошая она хозяйка, а на старый Новый год мы их снова позвали: «Вы же никуда не идете?»
Старый Новый год был всегда веселее просто Нового, потому что был нашим, во всей красе, праздником – неофициальным, неясным, нелепым, с нечистой, но притягательной цифрой тринадцать и без слишком уж торжественных двенадцати ударов. Темноватый бал уходящего года, в тот вечер все нарядились под самиздатовского Булгакова, дядя Вано наконец-то стал настоящем Котом Бегемотом, Ленинградский гость – Коровьевым, Дана, конечно, Маргаритой, Мастера не помню, Людмила снова пришла в воланах, а Наташей, превратившейся в ведьму, нарядили Леночку, приглашенную без злого умысла. Ослепительно юная, стрижка гаврош, алтайские скулы, наивное бесстыдство молодости и юбочка колокольчиком. Николай Иванович, любитель кустарников, стихов и огурцов, с крестьянским простодушием обнимал Леночку и неумело, но весело танцевал с ней фокстрот под загадочный хохот Даны.
В тот староновогодний вечер Людмила на шпагат не садилась. Хватит. Посидела немного за столом, встала, попрощалось, поблагодарила, нет, нет, мне пора, и, уже из дверей, крикнула: «Николай Иванович! Когда огурцы съедите – банки верните. Можете сюда занести, я заберу».
И забрала. Пришла в феврале, спокойная, домашняя, в халате с вязаными цветами на королевской груди. «Да скоро уже дачный сезон, хотела барбарис высадить, но не буду. Вроде неприхотливый куст, но ягоды кислые. Лучше ранетками засажу, нашими сибирскими, ароматными яблоками».

 (я в данном случае означает просто человек)
(я в данном случае означает просто человек)



 ну ко мне в основном лезут (правильней, я обращаю внимания
ну ко мне в основном лезут (правильней, я обращаю внимания